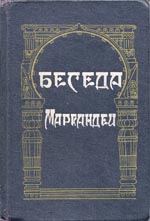Введение к IV выпуску Махабхараты: «Беседа Маркандеи»
Введение к IV выпуску Махабхараты: «Беседа Маркандеи».
Предисловие[править | править код]
Четвёртый выпуск серии переводов из «Махабхараты» можно условно разбить на два отдела: философский и эпический. «Ану-гита» является очень важным философским текстом «Махабхараты», наиболее систематически и полно по сравнению с другими текстами «Махабхараты», излагающим теоретические обоснования теории Санкхьи. Памятник относится к переходному периоду от эпической к классической Санкхье и необходим для всякого, желающего ознакомиться с основами этой выдающейся школы традиционной древнеиндийской философии, т. е. с одной из наиболее ранних философских систем, созданных человечеством. «Беседу Маркандеи», несмотря на пестроту текстуального состава, также можно причислить к философским текстам, во всяком случае знаменитую «Беседу брамина и охотника» — текст исключительной важности как с точки зрения истории культуры и философии, так и с точки зрения литературной, один из самых блестящих художественно-философских диалогов «Махабхараты».
Полностью переведённая XI книга (О жёнах) по своему гуманизму, предельной эмоциональной насыщенности и художественности принадлежит к лучшим произведениям общечеловеческой литературы; антивоенная тематика памятника особенно актуальна в наши дни. Эта книга, равно как и грандиозная трагедия «Книги великого исхода», являются ценнейшими жемчужинами не только «Махабхараты», но и индийской литературы вообще. В книге XVIII пафос этических исканий индийского народа доведён до предельно-достижимых высот.
Выпуски II, III и IV дают три из основных философских текстов «Махабхараты». V выпуск будет посвящён четвёртому, самому крупному по объёму (около 7500 шлок), философскому тексту поэмы, с переводом которой советский читатель получит почти все философские тексты ранней (эпической) Санкхьи.
Введение[править | править код]
Несколько замечаний о социальном и культурном значении «Махабхараты»[править | править код]
В четырёх выпусках переводов из «Махабхараты» дано в общей сложности свыше 10000 шлок, т. е. около 10% всего объёма эпоса, так что читатель получил уже достаточно материала, чтобы иметь возможность самостоятельно проверить известные высказывания, разбросанные во введениях к отдельным выпускам и в примечаниях к тексту. Это позволяет до известной степени систематизировать основные положения оценки «Махабхараты», как социального и культурно-исторического памятника. «Махабхарату» принято определять как сказание о войне феодалов в древней Индии, созданное приблизительно в середине первого тысячелетия до н. э., но повествующее (аналогично «Иллиаде» и «Одиссее») о событиях, происходивших на 8—10 веков до этого. Будучи формально правильным, такое определение настолько узко, что скорее дезориентирует, нежели разъясняет. Его недостаточность становится очевидной даже при грубой количественной оценке; поэма содержит приблизительно 33 000 шлок более или менее соответствующих вышеприведенному определению, а 65000 к нему не подходят. Учитывая, что из 33000 шлок много тысяч приходится на вставные эпизоды, можно сказать, что тематика войны охватывает приблизительно 1/4 эпоса, а 3/4 посвящено социальным, философским и мифологическим темам. Вот почему «Махабхарата» на протяжении более 20 веков была своего рода энциклопедией, на которой воспитывались поколения, и поколения индийского народа. И уже это одно придаёт памятнику первостепенную ценность для истории культуры Индии. И до наших дней следы его влияния отчётливо видны во всех отраслях индийской духовной культуры: изобразительном искусстве, художественной литературе, театре, философии, этике и т. д.
Некоторые исследователи склонны преуменьшать историческое значение событий, о которых повествует эпос. Так, например, академик Баранников, определяя «Махабхарату», как «сказание о великой войне» добавляет «о которой до нас не дошло подлинно-исторических данных (см. предисловие к переводу Кальянова I книги «Махабхараты»).
О троянской войне до раскопок Шлиманна тоже не было «подлинно-исторических данных», если б Шлиманн не следовал глубокой вере греческого народа в историчность своего эпоса, хранимого им как святыня на протяжении веков. Так и с «Махабхаратой»: нельзя считать не «подлинно-историческим» то, что народ веками сохранил как свою «подлинную» историю. Это, конечно, не исключает, а безусловно требует критического отношения к памятнику, ибо без такого критического отношения самая обыкновенная фальшивка может быть принята за «подлинный исторический документ» только потому, что она снабжена «подлинными» подписями и печатями. Итак, «Махабхарата», подобно всякому другому настоящему эпосу имеет известное историческое значение, как рассказ о событиях, сохранённых памятью народа; и пока история материальной культуры Индии ещё так мало разработана, для некоторых событий «Махабхарата» остаётся единственным историческим источником. Но, если для истории событий ценность «Махабхараты» относительна, то для истории культуры, социального и духовного развития индийского народа значение этого памятника нельзя переоценить. «Махабхарата» веками была весьма реальной силой, объединяющей многочисленные индийские племена. И в настоящее время во многих отношениях эпос продолжает быть основным источником наших знаний о жизни индийского общества в средние века I тысячелетия до н. э. о духе этой эпохи и об осмыслении народом своей жизни.
Итак, «Махабхарату» в первую очередь следует расценивать с точки зрения истории социальной жизни и культуры народа. К сожалению, богатейший материал памятника ещё очень мало обработан. Работы европейских исследователей немногочисленны и зачастую слишком формалистичны. Убедительным примером в этом отношении может служить работа Гольцмана «Махабхарата и её части»; все три тома посвящены так называемой «критике текста», почти без анализа его содержания, как будто такой формальный разбор, без учёта содержания, может дать сколько-нибудь убедительные выводы. Такие работы по «Махабхарате», как Далемана, — редкие исключения. Первое критическое издание текста поэмы предпринято институтом Бхандаркара лишь в последнее время. Нет ни одного полного перевода на европейский язык, снабжённого хотя бы небольшими комментариями. Существующие переводы (французский Фоша и 2 английских) недостаточно точны, а французский доведён только до 10-й книги. В Индии лишь в последнее время принялись за серьёзную научную разработку «Махабхараты», «Рамаяны», Пуран. Всё это создаёт большие трудности в работе, иногда приходится заново прокладывать пути анализа. А вместе с тем разработка наследия древней Индии имеет для общечеловеческой истории не меньшее значение, чем разработка «Иллиады» и «Одиссеи».
При изучении текстов «Махабхараты» бросаются в глаза 2 слоя тематики: слой политической истории феодальных родов и слой истории борьбы двух активных групп тогдашнего феодального общества — касты кшатриев и браминов, — выразившейся в политико-социальных отношениях, в борьбе двух основных религиозных течений — вишнуизма и шиваизма — и в борьбе философской мысли. «Махабхарата» отображает кипучую работу мысли в среде кшатриев, эпоху напряжённых и плодотворных исканий, определивших дальнейшие промеры.
Первый слой, менее сильный и богатый, а потому больше привлекал внимание и легче поддаётся формалистическому анализу, второй слой — мощный, богатый, требует глубокого диалектического анализа, а потому разработан гораздо слабее. Но диалектические антитезы настолько сильны и в первом слое, что не могли не обратить на себя внимание даже в начальный период изучения эпоса. Уже некоторые немецкие учёные конца прошлого начала текущего века обратили внимание на то, что в «Махабхарате» далеко не всегда сохраняется «правда» за Пандавами, а «кривда» за Кауравами, как этого следовало бы ожидать, если бы эпос являлся произведением лишь одной из враждующих сторон. Строились догадки, что «первичная» редакция «Махабхараты» была прокауравской ориентации (А. Гольцман, Лассен). Эти высказывания подкреплялись не диалектическим анализом содержания, а чисто формалистическими соображениями в роде толкования имени Дурьйодханы-Суйодхана. Считалось, что тексты, где сын Дхритараштры именуется Суйодхана относятся к «первичной прокауравской» редакции, а тексты, где он назван Дурьйодхана — ко «вторичной пропандавской» редакции, что тексты, где говорится о свирепости Бхимы, — прокауравские. Дальше подобных соображений критика не заходила. Не делалось даже попытки осмысления таких «редакций», вскрытия их социальной сути, так как по молчаливой предпосылке эпос рассматривался, как произведение сильнейшего из враждующих родов. А когда одержала победу противная сторона, то «редакторы» перекрасили белых в чёрных, а чёрных в белых, но следы первичной редакции видны в тех местах, где Пандавам приписываются неблаговидные поступки (например, нечестное ведение боя) и в сохранении за кауравами имён с «положительным» значением, что кстати сказать весьма спорно. Бесплодность таких рассуждений очевидна, и объясняется она порочной предпосылкой, игнорирующей истинную народность памятника.
Гораздо более основательны предположения о редакционной обработке эпоса браминами: доказательства такого предположения опираются не на формальные моменты, а на анализ содержания.
Для решения вопроса о социальном облике «Махабхараты» весьма полезно проанализировать социальный характер враждующих сторон. Сторона Пандавов носит выраженный кшатрийский характер. Сам претендент на престол Юдхиштхира — кшатрий, хотя и претендующий на браминство: он «сын Дхармы», бога, соединяющего черты обеих каст. Как владыка и судья мёртвых Яма — кшатрий, но как блюститель Закона Дхарма — брамин, имеющий власть кшатрия сделать брамином (ср. эпизод с Вишвамитрой в «Странствовании Галавы», вып. III). Характерно, что поэма, как правило, называет Юдхиштхиру «сыном Дхармы», а не «сыном Ямы».
В небесном мире Юдхиштхира становится великим риши и достигает «мира Брамы», т. е. становится брамином (ср. кн. XVIII). Таким образом, Юдхиштхира есть выразитель воли касты (класса) кшатриев объединить власть обеих каст, власть исполнительную и законодательную, выражаясь языком современности. Это стремление и есть истинный двигатель «великой войны». Братья Юдхиштхиры все чистые кшатрии, особенно самый выдающийся из них, Арджуна, сын бога кшатрия — Индры. По «земному отцу» все пять братьев — сыны Панду «Бледного» или «Желтовато-бледного», что совпадает с символическим цветом Вишну в Трета-югу (Хари значит «бледно-жёлтый»; в Трета-югу Вишну носит жёлтую одежду). Идейный руководитель Пандавов — Кришна, воплощённый Вишну, бог кшатрий, олицетворение Солнца, от которого ведут свой род кшатрии (брамины ведут свой род от Сомы-Луны). Из человеческих воплощений Вишну — два кшатрийские: Рамы, Кришны, и одно — браминское, но характерно, что кшатрий Рама прогоняет брамина Парашураму и кладёт конец его бесчинствам, как брамина, топорами изничтожившего кшатриев (тысяча рук Парашурамы подчёркивает коллективность образа). Кришна — особый кшатрий: хотя он и царского рода и после борьбы сам стал царём, он — сын народа, пастух из Вриндавана, Говинда, охранитель коров, весёлый деятельный шутник, проведший детство и юность среди природы, в вечно весёлых, но безобидных проказах, в обществе таких же жизнерадостных подруг, безумно влюблённых в него пастушек. Образ Кришны близок нашему Ивану-царевичу, разделяющему с народом и горе и радость, преследуемому царём, подобно Кришне и одержавшему победу над всем, чтобы справедливо и радостно править народом. Оба они, Иван-царевич и Кришна, вышедшие из народа, идеальные его вожди. Но кроме того Кришна — вдохновенный мудрец, йогин, владыка йоги, пришедший исправить пути её, когда йога пришла в упадок (ср. «Гита», гл. IV). Кришна передаёт ученику своему, кшатрию из кшатриев, йогу, хранимую традицией кшатриев (раджа-ришами), открывает великий, царственный путь Освобождения, ниспровергающий все преграды, понаставленные законниками-браминами, упраздняющий Веды, становящиеся ненужными, как не нужен маленький водоём в наводнение (ср. «Гита» гл. II). Итак, Кришна не только политический вождь, но и духовный водитель, махатма. И оскорблённые брамины, ему мстят: убивают его и весь его народ, его последователей. Таков социальный облик одной стороны. Даже при поверхностном рассмотрении ясно виден антагонистический социальный характер другой стороны. Кауравы — змеи. Дхритараштра и наг подземного царства (ср. «Повесть о Матали», вып. III), и царь земной; в небесном царстве он входит в природу Куверы, бога-брамина, хранителя сокровищ и покровителя купцов, ездящего на колеснице, запряженной людьми (ср. «Сказание о Раме», вып. III и кн. XVIII настоящего выпуска). Змеи почитаются шиваитами, браминами, как символ бога-брамина — Шивы. Лексикографы толкуют слово «каурава» как «ритвидж». Каково бы ни было коренное значение слова, важно, что так его традиционно понимали; ритвидж значит «знаток ритуала» — эпитет брамина. Таким образом, индийская традиция — за предлагаемое толкование. Имена большинства сыновей Дхритараштры — сложные слова с первым составляющим словом «дур» — «дурно», «трудно». Например, Дурйодхана — Труднооборный; за то, что имя это понималось не в отрицательном смысле — «дурно сражающийся» — свидетельствует то обстоятельство, что его сторонники только так и называют его, тогда как переделка его имени Суйодхана, якобы имеющая положительный смысл «хорошо сражающийся», употребляется только противниками и всегда по контексту презрительно, в смысле «легко одолимый». Однообразное составление имён для членов одного рода не раз встречается в «Махабхарате». Такой приём подчёркивает единство членов рода и носит тотемический характер, т. е. в конечном счёте — ритуальный. Так имена членов рода Икшваку-Кувалаяшвы составные со словом «ашва» — «конь». Ясно, что этим род объединяется в своём тотеме: «конь». Подобно и слово «дур» объединяет членов рода, говорит о его тотеме, а следовательно, для носителей имён не имеет дурного значения. Тотемические имена весьма близки теофорным, широко распространённым у всех древних народов (ср. Теодор, Худайберды, Ионатхан, Деватта-Богдан). Имена сыновей Дхритараштры составлены по типу одного из эпитетов жены Шивы — Дурга (Труднодостижимая). Сыновья Дхритараштры родились при ближайшем участии браминов: жена Гандхари родила кусок мяса, который брамины разделили на 101 часть и разложили по кадушкам, где из этих кусков выросли сто сыновей и одна дочь.
Полководцами кауравов были Бхишма и Дрона, как правило, упоминаемые вместе, так что даже зачастую одна речь передаётся от обоих вместе (ср. их речь в «Путешествии Бхагавана»). Дрона-брамин тоже родился в кадушке, а Бхишма — сын Ганги, реки, особенно связанной с Шивой и Дургой. Небесную Гангу Шива принял на свои плечи и так низвёл на землю через Гималая, отца Дурги. Против Дроны-брамина восстают его ученики-кшатрии — Пандавы. Сокрушительный удар, уничтоживший войско Панадавов, наносит брамин, сын Дроны — Ашваттхаман и не честно, в открытом бою, а предательски напав на спящих, совершив таким образом преступление презреннейшее из презренных. Он совершает это под руководством Шивы и его нежити. Вражда продолжалась и после смерти Пандавов: Парикшит, внук Арджуны, поставленный Юдхиштхирой царём в Хастинапуре, был умерщвлён змием Такшикой, сыном Кашьяпы, брамином, за что сын Парикшита, Джанамеджая задумал умертвить всех змей (шиваитов-браминов). Изложенное говорит против мнения Далемана, который видит в Пандавах представителей браминов, считая, что имя Панду — «бледный» — является намёком на белые одежды браминов, а Куру (он понимает как «красный») считает представителями буддистов и кшатриев, что весьма не убедительно, начиная с того, что для буддистов характерен не красный цвет, а бледно-жёлтый или коричневый, так как они носят, как и вообще индийские аскеты, мочальную одежду. В такой одежде традиционно изображают Будду.
Так выясняется вторая, более важная тема «Махабхараты»: история борьбы каст кшатриев и браминов, борьбы не только физической, но и идеологической, что для того времени выражалось в религиозных терминах — борьбы Вишну и Шивы. Помимо главной линии повествования, намеченной выше, эта борьба сказывается во множестве эпизодов, которые особенно легко было подвергнуть редакционной обработке. Так история Рамы и Парашурамы — прокшатрийский вариант открытой борьбы каст, история Аларки и Парашурамы (кн. XIV, «Анугита») — пробраминский. В истории насмешки царя над жадностью Нарады, в перебранке браминов из-за даров («Беседа Маркандеи») сказывается идеологическая борьба. Таких примеров можно подобрать большое количество. Характерно, что в «Махабхарате» брамины, как конкретные личности, в подавляющем большинстве случаев изображаются отрицательно: гневливыми, жадными, мстительными, интриганами. Только так сказать агиографические фигуры вроде Маркандеи, Нарады изображаются с абстрактно-каноническими чертами святых, да и то не всегда безупречных — раджа старается поставить Нараду в смешное положение, говорит о любопытстве Нарады и пр. Но самая главная черта в плане идейной борьбы — это сведение к минимуму учительской роли браминов, на которую они всегда ревниво претендуют. Из четырёх главных философских текстов «Махабхараты» — книги «Санатсуджаты», «Бхагавадгиты», «Анугиты» и «Мокшадхармы» — только один текст наименее значительный и в качественном и в количественном отношении, — «Книга Санатсуджаты», даётся от лица брамина, но не конкретной личности, а мифического существа. В остальных трёх, наиболее важных, как поучающие, выступают кшатрии — Кришна, Бхишма. Три текста уже даны в этой серии, один же — «Мокшадхарма» — намечен для пятого выпуска. В замечательном тексте из «Беседы Маркандеи» брамин оказывается даже в положении ученика, выслушивающего поучения от представителя низшей касты, охотника.
В философских текстах «Махабхараты» неоднократно затрагивается авторитет Вед. Если этот момент в «Гите» можно смягчить толкованиями, то в «Анугите» он поставлен с резкостью, исключающей всякие толкования. В «Махабхарате» продолжается борьба с ритуализмом и косностью браминства, начатая Упанишадами, борьба за право свободной мысли, за великую идею Освобождения Человека. Эта борьба придаёт общую ценность «Махабхарате», утверждает её величие как памятника высочайшего гуманизма, впервые в истории человечества провозглашённого Упанишадами и эпосом индийцев. Следует отметить, что изложенное понимание «Махабхараты», как истории борьбы класса воинов-правителей с жреческим классом, находит подтверждение в аналогичных явлениях феодального общества у других народов. Ярким примером может служить история Тутмеса III и особенно Аменхотепа IV, переименовавшего себя в Эхнатона (XVIII династия, середина II тысячелетия до н. э.).
Анализ текстов[править | править код]
В настоящий выпуск входят довольно разнохарактерные тексты, знакомящие читателя с различными гранями «Махабхараты», но все они проникнуты одним духом гуманизма и во всех сказывается основной пафос поэмы: стремление к Правде, высокой нравственности и конечному Освобождению.
Эпические тексты[править | править код]
«Книга о жёнах» (XI) — один из самых сильных в художественном отношении текстов «Махабхараты». Высокий пафос этой книги о плаче женщин на поле битвы, утончённость и чистота чувств настолько общечеловечны, общепонятны, что непосредственно захватывают читателя, даже мало знакомого с Индией. Достаточно многочисленные примечания обеспечивают понимание фактического материала как в смысле фабулы, так и в смысле местных особенностей.
То же можно сказать и о двух последних книгах: «Книга великого исхода» (XVII) и «Книга вознесения на небо» (XVIII). Они проникнуты глубокой нравственностью, высоким чувством долга, понимаемого как безусловная ценность, преодолевающего слепой инстинкт самосохранения. Торжественные и суровые мотивы «Книги великого исхода» звучат, как хорал в стиле высокой мистериальной трагедии. Гораздо слабее, менее целостна в художественном отношении кн. XVIII, где догматико-ритуалистические темы ослабляют основной мотив беззаветного самопожертвования и верности до конца. Но эти привнесения легко снимаются, как поздние записи на картине великого мастера, и тогда картина предстаёт во всём своём простом и строгом величии. В целом же XVIII книга представляет интерес, как подводящая итоги некоторым темам, проходящим через всё произведение. Отметим две из них, своеобразные и глубоко интересные в культурно-историческом смысле.
Первая — это взаимоотношения победителей и побеждённых. Как далека картина, развёрнутая в XI книге от обычного изображения «торжества победителей», не только в литературе древних народов, но и гораздо более поздней.
«Махабхарата» здесь снимает личные моменты, как таковые, всё внимание устремлено на нравственный пафос. Ни в древнегреческой, ни в египетской, ни, тем более, в жестокой литературе круга ассиро-вавилонской культуры нельзя встретить ничего близкого к внутренним установкам «Махабхараты». В лучшем случае мы встречаемся с «великодушной» пощадой жизни побеждённых или разрешением похоронить убитых врагов. Достаточно сравнить сцену встречи Прияма с Ахиллом, пришедшего умолять победителя о последнем горьком утешении, о разрешении похоронить обесчещенное тело Гектора, которое Ахилл с торжеством волочил вокруг Трои, на глазах родных издеваясь над трупом павшего героя, или трагедию Антигоны, поплатившейся жизнью за оказание последнего долга убитому брату, со сценой встречи Юдхиштхиры с Дхритараштрой и Гандхари, чтобы увидеть всё глубочайшее различие в понимании нравственности греками и древними индийцами. А ведь греки — наиболее передовой из древних народов Средиземноморья и Передней Азии, их гуманизм признан примером достойным подражания. Или ещё одна характерная параллель: когда Саул и народ пощадили Агага, амаликитийского царя, пророк Самуил проклял Саула, как нарушившего слово господнее и велел привести к себе Агага. Далее летопись говорит: «...и подошёл к нему Агаг дрожащий и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновала?» Но Самуил сказал: «Как меч твой жён лишал детей, так и мать твоя между жёнами пусть будет лишена сына». И разрубил Самуил Агага перед Адонаем в Галгале» (см. I Самуила, XV, 33).
Характерно и отношение к правде. «Махабхарата» считает позором ложь при каких бы то ни было обстоятельствах и при положительной характеристике не преминет упомянуть о правдивости данного лица. Грек подчёркивает «хитроумность» Одиссея и вменяет ему в заслугу всякие плутни, как пример, достойный подражания. Плутнями занимаются и греческие боги — в отношениях друг с другом и в отношениях с людьми.
Вторая знаменательная черта в XI книге — это проклятие Гандхари Кришны. Гандхари знает, что Кришна воплощенный Вишну, но не в этом суть эпизода; «Махабхарата» не так уж редко повествует о подобных случаях проклятия богов человеком, которые сбываются, как и проклятие Гандхари. Удивителен ответ Кришны, с усмешкой возразившего Гандхари, что она этим своим проклятием лишь способствует совершению предназначенного. Никаких громов, никаких угроз, никакого гнева, лишь усмешка мудреца, действительно знающего закономерность всего совершающегося и умеющего перемагнитить зло так, чтобы оно стало силой, использующей закон, т. е. добром. В этом особенность решения проблемы зла индийской философией, постоянно предъявляющей требование мудрецу стать выше всяких противоположностей. «...Кто преступил пороги добра и зла, сжигает корабли. Да заклянут усопших боги, да заклянёт их дух Земли...»
Так решает Индия одну из труднейших этических проблем. К этому важному философскому вопросу предстоит вернуться в дальнейшем при подведении итогов изучения философских текстов «Махабхараты».
На этом можно закончить краткий анализ трёх эпических текстов, помещённых в настоящем выпуске и обратиться к задаче, гораздо более сложной — анализу двух других текстов настоящего выпуска.
Беседа Маркандеи[править | править код]
«Беседа Маркандеи» — раздел III книги «Махабхараты», интересен своим особым разнообразием стилей, направлений и тем. Сюда вошли тексты существенно разных исторических и социальных слоёв: и великолепные эпические картины природы, и легенды о потопе, и вдохновенное пантеистическое сказание, один из наиболее ранних памятников подобного рода, и басни о браминских, довольно наивных фокусах, сложенные на устрашение кшатриям, и анекдоты про браминов, явно сложенные кшатриями, и длинные «небесные прейскуранты», свидетельствующие о жреческих аппетитах. Им позавидуют даже «святые отцы» из Ватикана, как известно создавшие себе не только славу, но и немалый капитал на торговле «небесным товаром». Здесь и теологические легенды, прославляющие браминов. И среди всего этого нагромождения — чудесная «Беседа брамина и охотника», блестящий философский диалог, по мастерству не уступающий лучшим диалогам Платона. Не даром один из самых выдающихся людей Индии прошлого века Вивекананда называл эту беседу «одной из лучших Упанишад». Основная тематика «Беседы Маркандеи» изложена в конце 183 главы книги (вторая глава «Беседы») — теория перевоплощений в одном из её ранних изложений.
Вся беседа построена, как обычно не только для «Махабхараты», но и для многих других литературных памятников древней Индии, в виде поучения, вызванного вопросом ученика. Вопрошает Юдхиштхира, поучает идеальный мудрец, вечно юный многовековый Маркандея.
Теория перевоплощений основывается не на гедонистическом принципе, не на желании вечно наслаждаться жизнью и не на догме существования бессмертной души. Эмоциональный тон теории пессимистичен, а учение о долговечной душе не основа, но следствие теории, построенной на чисто философской концепции непрерывности причинно-следственного ряда. Миропроявление рассматривается, как процесс возникновения объекта перед единственно действительным абсолютным субъектом, определяемым поздними Упанишадами, как единство Бытия-Знания-Блаженства. Отсюда зло определяется как всё более утверждающееся неведение, забвение истины бытия. Следовательно, на более ранних ступенях миропроявления зло менее выражено, так как тогда слабее неведение; на более поздних ступенях, по мере возрастания неведения, уплотнения сознания, возрастает и зло. В начале миропроявления сильна кинетическая энергия (раджас) и совсем ничтожна потенциальная (тамас), а потому преобладает свет и разум (саттва). Но по мере развития процесса миропроявления кинетическая энергия (раджас) истощается и нарастает инерция — тамас, тьма; истощается свет, разум. Когда кинетическая энергия, разворачивающаяся центробежной спиралью (правритти), истощается, начинается центростремительный процесс, повторяющий обратный ход спирали (нивритти), сворачивание. Таков закон потока жизни, самсары, проявляющейся в смене юг (мировых периодов). Изложение учения о миропроявлениях начинается с пралаи, т. е. с того момента, когда мир истощивший свою кинетическую энергию, растворяется в первичных водах. Так вводится в философскую систему миропроявления сказание о потопе. В древнеиндийской литературе есть несколько вариантов сказания. Первым, прозаическим и наиболее простым, является вариант, сохранившийся в «Шатапатха-брахмане»; варианты, сохранившиеся в «Махабхарате» и «Манавадхармашастре», сложнее и написаны размером шлоки.
В «Беседе Маркандеи» соединены два варианта сказания о потопе — основной вариант повествует о Ману, долженствующем воссоздать новый мир; Ману спасается на корабле, хранящем семена будущего мира. Другой вариант — рассказ о переживаниях Маркандеи во время потопа, мало связанный с первым и выпадающий из системы учения о мировых периодах (манвантарах) правления одного из Ману.
В «Беседе Маркандеи» слово «манвантара» не употребляется, роль Ману отходит на задний план, и неожиданно выплывает эпизод с Маркандеей. Семитические варианты сказания о потопе изображают событие, как катастрофу, вызванную гневом богов, а не как закономерное звено в цикле миропроявления, тогда как в индийских вариантах этот момент выдвигается на первый план. В редакции, сохранённой «Махабхаратой», в рассказе о плавании Ману, вдруг появляются неизвестно откуда семь ришей, и сам рассказ резко обрывается рассказом о плавании Маркандеи. Характерно, что в повествовании о Ману Брама заботится о спасении Ману, в истории же Маркандеи Брама не играет никакой роли: этот вариант не брахманический, а вишнуитский, а следовательно, не браминский, а кшатрийский, и создан он для прославления Вишну, как Пурушоттамы, Космического Духа, тело которого — вселенная. Пантеистический текст прерывается изложением теории мировых циклов, причём дано два варианта, оба вишнуитских, но второй подвергся сильной браминской обработке. Весь текст, заключающийся в главах 185—193, — вставка, прерывающая тему «о великой участи браминов» (гл. 184—185 и 192—193). Тема эта распадается на несколько, мало связанных между собой рассказов и брахманических ритуалистических отрывков, более близких по духу и, вероятно, по времени Брахманам, нежели эпосу. Представляет значительный интерес фольклорная вставка гл. 192, лишь искусственно притянутая к теме «о великой участи браминов», путём присоединения к ней истории с конями Вамья. Тема вставки — повесть о царевне-лягушке. Эпизод изложен более архаическим языком, нежели язык предшествующих глав.
В, казалось бы, простой сказке затрагивается важный для того времени политический момент. Схема сказки такова: раджа встречается с девушкой неизвестного происхождения и вступает с ней в так называемый гандхарвский брак; увлечённый женой, он забывает о своём долге правителя; первый министр, обеспокоенный увлечением раджи, подстраивает исчезновение (гибель) новой царицы и вызывает избиение её народа; родственник царицы (отец) спасает свой народ и устраивает дальнейшую жизнь царя с любимой женой. Царица, в наказание за распутное поведение, родит нечестивых сынов, не чтущих браминов, за что царевичи и получают от них надлежащую острастку. Мораль сказания: не следует радже жениться на иноплеменницах, да ещё из неизвестного рода, так как от такого брака рождаются нечестивые сыны, не чтущие браминов — добавляет браминская редакция. Схема эта поразительно совпадает со схемой подобного же семитского повествования, сохранённого в еврейском варианте истории Эстеры (Эсфири), но, несомненно, не еврейского, а вавилонского происхождения. В этой истории царь также женится на девушке, скрывающей своё происхождение; первый министр замышляет погубить новую царицу и её народ, но спасает положение приёмный отец царицы; интриган-царедворец повешен (вариант в вавилонском вкусе). Сказание это подверглось еврейской редакции в период вавилонского пленения, но его вавилонское происхождение совершенно ясно выявляет анализ имён. Имени Эстер в еврейском языке довавилонского периода нет, это лишь, еврейское произношение вавилонского asthr — Истар; имени Мардух тоже нет, это вавилонское имя Мардук или Меродах — в халдейском произношении. Книга Эсфири связана с именем Артаксеркса, т. е. относится к середине первого тысячелетия до н. э. В первом же стихе книги говорится, что царство Артаксеркса простирается от Индии до Эфиопии. Среди князей мидийских и персидских, которые «могли видеть царя», упоминается Каршона (chrshn; 1, 14); явно это санскритское Кришна, лишь семитически вокализованное, но сохранившее то же начертание, только с начальным твёрдым «ход», произносимым как «к», вместо ожидаемого «каф». Нужно подчеркнуть, что имена Истар и Мардук восходят к халдейской древности. Мне неизвестно, существует ли в вавилонской литературе сказание, параллельное индийской сказке-притче о царевне-лягушке, но, по-видимому, история Эсфири есть какой-то вариант из многочисленных легенд о борьбе Мардука с другими богами, закончившейся его полной победой, равно, как и победой Истар. Истар носит некоторые черты, общие с царевной-лягушкой: она, как и царевна-лягушка, постоянно меняет любовников и потом превращает их в животных или губит, в чём её упрекает Гильгамеш; так и отец царевны-лягушки упрекает дочь, что она погубила много раджей.
В период возвышения Вавилона из прежних богов практически остались лишь Мардук, отождествлённый с планетой Юпитером, и Истар, отождествлённая с планетой Венерой; их отношения были не вполне ясны: то ли супружеские, то ли отца и дочери, так как в обоих божествах слились образы более древних богов. В древности Истар считалась дочерью Сина, Месяца и Мардук, вобравший в себя образ Сина, становился как бы приёмным отцом Истар, как Мардохай был приёмным отцом Эсфири. Син (Луна) связан с водой, а следовательно, это повелитель водяных животных, как и отец царевны — властитель лягушек. Думается, что такой почти полный параллелизм и прямое указание книги Эсфири на связь с Индией, с достаточной убедительностью исключает предположение о случайных совпадениях. Для разбираемых легенд нужно найти их место в истории культурных связей Индии с Двуречием.
Ряд рассказов, объединённых общей темой «великая участь раджей» (гл. 194—200, 96), носит явный характер поучений, как полагается раджам обращаться с браминами. Основной мотив поучений — требование щедрости к браминам, вплоть до юродства: раджа бьёт брамина, чтобы иметь возможность компенсировать его более щедрыми дарами, чем те, которые просил брамин. Все эти поучения даны в прозе, что говорит об относительно раннем их происхождении. Заканчиваются они длинным прейскурантом, сообщающим цены за те или иные привилегии в мире Ямы (200, 1—96). Это вариант главы 186. Из рассматриваемых фрагментов нужно выделить знаменитую легенду о самопожертвовании Шиби. В III книге существуют два варианта легенды, из которых данный, как прозаический, является, по-видимому, более ранним. История Шиби сближается с историей воплощения Будды (Джатака), где повествуется, как Будда в одной из своих жизней отдал своё тело в пищу голодной тигрице, кормившей детёнышей. Это — апогей учения о невреждении (ахимса). Характерно, что легенда ставит высокое нравственное требование не откупаться за счёт другого, но жертвовать собой: Сокол-Индра не принимает барана, как выкуп.
Легенда ставит огромную нравственную проблему, издревле близкую психике индийцев и сохранившую среди них свою популярность вплоть до наших дней: между жертвой Шиби и великой жертвой, принесённой Махатмой Ганди за свой народ, — прямая связь. На протяжении веков сказание о Шиби повторялось, как высокий пример, достойный подражания. И наряду с ней, как уродливый нарост, легенда о том же Шиби, но уже в чисто браминском духе: испытание Шиби Дхармой. Сходство этого испытания с легендой о жертвоприношении Авраамом Исаака несомненно. Только в кн. Берейшит вопрос был поставлен раньше, чем в «Махабхарате», в конце первого — начале второго тысячелетия до н. э. и может быть ещё раньше в Вавилоне. Тураев замечает, что в период расцвета вавилонской культуры человеческие жертвоприношения совершались лишь в исключительных случаях и что они, по-видимому, заменялись жертвоприношением животных. Автор ссылается на один текст, указывающий: «Агнец — замена человека. Агнца даёт он за свою жизнь». Такое разрешение вопроса в точности совпадает с библейским. Легенду о жертвоприношении Авраамом Исаака принято рассматривать как символическое повествование о прекращении человеческих жертвоприношений, хотя позднейшие летописи и упоминают о единичных случаях принесения в жертву людей. Так, Иофай приносит в жертву свою дочь в благодарность за победу. Аналогично Агамемнон приносит в жертву Ифигению для обеспечения победы над Троей. Во 2 й (4) книге «Царей» рассказывается эпизод войны евреев с моавитянами: видя, что он проигрывает битву, моавитянский царь «взял сына своего первенца», которому следовало царствовать вместо него и вознёс его во всесожжение на стене. Евреи были так впечатлены, что потеряли веру в победу и сняли осаду города. Постановка вопроса в истории Шиби ближе всего к той, которой отличается история Авраама, но обладает и своими особенными чертами. Авраама испытывал Иегова непосредственно и вопрос ставился о покорности воле божьей, а Шиби испытывает Дхатар под видом простого брамина и вопрос ставится в плоскости безусловной покорности земным богам, браминам, что очень обостряет социальный момент и позволяет рассматривать легенду о Шиби, как одну из перипетий борьбы браминов и кшатриев. Ведическая религия не знала человеческих жертвоприношений, они появились в индуизме в связи с культом Шивы и в особенности с параллельным культом Дурги, явно не ведического происхождения. Строго говоря и обряд сати (самосожжения вдов) можно рассматривать, как особый вид человеческого жертвоприношения.
Но эпизод с Шиби не просто жертвоприношение сына наподобие известных жертвоприношений детей Молоху, ибо этот эпизод связан с людоедством. О людоедстве в «Беседе Маркандеи» упоминается дважды: в легенде о Шиби и очень глухо в гл. 208 в связи с именем раджи Саудасы (Калмашапады), история которого подробно рассказана в I кн. «Махабхараты» (гл. 166—168). И здесь людоедство связано с брамином: по проклятию брамина царь становится людоедом, так как в него вселяется ракшас. Интересно, что проклятие обернулось на голову проклинающего: раджа в первую очередь съел проклявшего его брамина. Трудно думать, что рассказ этот имеет лишь символическое значение, как изображающий борьбу двух каст (ср. метафорическое выражение «съесть» кого-нибудь). Эти легенды нужно рассматривать, как отражение реальных фактов людоедства. Обычай пить кровь побеждённого врага — тоже не ведического происхождения и, по-видимому, привился арийцам в более позднее время, возможно вместе с культом Шивы. О таком обычае, как о символическом утверждении победы, упоминается в сне Карны («Путешествие Бхагавана), в кн. XI Гандхари обвиняет Бхиму в том, что он пил кровь своего двоюродного брата. Бхима отклоняет от себя обвинение, но не отрицает существование самого обычая, хотя и отзывается о нём как о непохвальном. Вопрос о существовании людоедства во времена «Махабхараты» и о его происхождении представляет определённый этнографический интерес и требует специального изучения. Он как-то связан с общением пришлых арийцев с аборигенами: «Махабхарата» часто упоминает о ракшасах-людоедах, живущих в лесах; по-видимому, речь идёт о каком-то диком племени (или племенах). Интересно, что в употреблении крови обвиняется Бхима, «сын Ветра», равно, как «сыном Ветра» именуется и лесной человек Хануман. Не исключена возможность, что речь идёт о лесном племени с тотемом обезьяны. Обычай пить кровь врага объясняется как магический акт, обеспечивающий победителю получение воинских качеств побеждённого.
Главы 205–215 излагают знаменитый диалог между брамином и охотником. Философские положения диалога общи и для других философских текстов «Махабхараты». Вопроса о так называемой «эпической» или «ранней» Санкхье мы коснёмся ниже, здесь же остановимся на некоторых социальных моментах, затрагиваемых диалогом. Взгляды диалога для своей эпохи поражают широтой и свободомыслием. Уже один тот факт, что брамин не поучает, а принимает поучения от человека низшей касты, свидетельствует, что произведение родилось не в браминской среде. Поражает глубокий гуманизм диалога, утверждение права человека на свободное мышление и на духовное развитие вне кастовых условий и вне половых ограничений. Низшей касте, по браминской установке, запрещалось даже слушать чтение священных книг, запрещалось заниматься йогическими упражнениями (тапасом). В «Рамаяне» есть сказание о том, как один шудра успешно занимался йогическими упражнениями и этим осквернил всю округу, за что Рама и прикончил его. В свете таких фактов нужно оценивать широту социальных взглядов «Беседы брамина и охотника», действительно близких Упанишадам, как считал Вивекананда.
Женщинам высших каст разрешалось заниматься аскезой, чему есть многочисленные свидетельства в «Махабхарате», но особенностью разбираемого диалога является поучающая роль женщины. Правда, в позднейшей (шиваитской) литературе встречаются диалоги, где поучает женщина, но это связано с культом Великой Матери. В более ранних памятниках встречаются поучения матерей сыновьям, но в других случаях, как правило, поучают мужчины. Философские диалоги между мужчиной и женщиной встречаются уже в Упанишадах (ср. диалог Яджнавалкьи с женой Майтреи — Брихадараньяка уп.); в «Анугите» муж-брамин поучает жену, причём подчёркивается пассивная роль женщины: пассивно она достигает тех миров, которых активно добивается муж.
В беседе же брамина и охотника муж Цапли не играет никакой роли: женщина сама добивается великой доли исполнением долга; более того она даёт наставления брамину.
Последний эпизод «Беседы Маркандеи» типичный браминский текст, основная цель которого показать бессилие кшатрия Индры и величие брамина Картикеи-Сканды. Миф очень запутан и осложнён превходящими астральными моментами. Путём сложных хитросплетений легенда доказывает, что Сканда — сын брамина Шивы, лишь принявшего образ кшатрия Ангирасы[1]. Миф о воеводе-брамине переплетается с астральным мифом о пребывании Огня (Солнца) возле «жён семи ришей», созвездия Плеяд, т. е. приблизительно в 15° Тельца, откуда он удалится (в лес). Так как Солнце — родоначальник кшатриев, то и для Огня избрана не его браминская форма Агни, а форма Ангирасы.
Пребывание Солнца в Тельце означает, что там происходило равноденствие. Известно, что круг эклиптики смещается по отношению к экватору так, что точки пересечения обоих кругов возвращаются к исходному положению приблизительно через 26 тысяч лет. Следовательно, равноденствие происходит в одном и том же знаке приблизительно в течение 2150 лет, так что переход равноденствия в знаке Овна совершился приблизительно за 200 лет до н. э. В средних столетиях первого тысячелетия точка равноденствия находилась на грани Тельца, т. е. переходила в знак Овна, что и могло служить поводом для создания мифа, опоэтизирующего это астрономическое явление.
Возле Плеяд точка весеннего равноденствия находится в середине второго тысячелетия до н. э. Нужно отметить, что Плеяды среди народов Древнего Востока пользовались дурной славой. Так в Вавилоне их принимали за 7 злых духов (Тураев); в мифе о рождении Сканды Плеяды фигурируют в виде злых матерей. Остаётся неясным, почему в легенду о брамине-полководце вплетён астрономический миф. Возможно, что весь текст есть заговор против болезней и потому понадобилось излагать всю историю происхождения владыки болезней, каковым является Сканда. Как бы то ни было, но ясно, что в легенде о рождении Сканды, переплетаются различные мотивы, разделить которые в достаточной мере трудно, так как общая цель их одна: показать фактическое превосходство Сканды над Индрой, т. е. браминов над кшатриями, хотя юридически первенство остаётся за последними.
Анугита[править | править код]
Как и «Беседы Маркандеи», «Анугита» не является целостным текстом, но распадается на три раздела. Первый — составляют главы 16—19. Текст этот по форме и по содержанию близок буддизму. Как у буддистов, и здесь поучение ведётся от имени совершенного (сиддха) о двух путях и об отрешённости. Оно атеистично, как и поучения раннего буддизма: освобождение понимается как отрыв от всего проявленного. Теоретические положения и учение о перевоплощении затрагиваются кратко лишь постольку, поскольку это необходимо для обоснования практики йоги; об относительно раннем происхождении текста свидетельствует внимание, уделяемое учению о пранах, что свойственно Упанишадам. По мере развития школы Санкхьи это учение отходит на задний план. Второй раздел называется «Песнь брамина» и охватывает главы 20—34. Текст этот тоже не целостен, в нём отмечаются плохо увязанные с основным текстом вставки. Ведущей мыслью является изложение психологического учения в целях практической йоги. К вставочным эпизодам относятся: а) полемика с буддистами (спор брамина с яти, гл. 28); б) эпизод о Парашураме (браминский вариант легенды, гл. 30); в) рассуждение Амбариши; г) испытание Джанаки Дхармой и д) формула брамина о единой задаче во всех стадиях жизни (гл. 31–33). Всё это по существу — вариации на тему о практике отрешения. Главы 20—23 — теоретическое вступление к основному йогическому тексту (24—27). Текст этот относится к ранней Санкхье, когда теория гун была ещё слабо разработана, а теория пран оставалась в силе. В смысле направления это вишнуитский текст и, следовательно, кшатрийский, на фоне которого особенно резко выдаются браманические вставки.
Спор жреца-брамина с отшельником сомнительного типа, яти, ясно направлен против буддизма. Он вполне аналогичен эпизодам, встречающимся в суттах раннего буддизма, но, разумеется, с противоположным исходом диалога: в буддийских текстах брамины отдаются под покровительство Будды, а здесь посрамлённым оказывается яти.
Легенда о Парашураме, данная в III книге в вишнуитском (кшатрийском) варианте с победой Рамы и поражением Парашурамы, в «Анугите» дана в браминском варианте. Рама — слишком яркая и популярная фигура, чтобы представить его побеждённым, а поэтому в данном варианте его заменяет неизвестный Аларка, которого не опасно проучить. Кшатрии представлены трусливыми вырожденцами, загнанными в горы и утратившими своё кастовое достоинство. Свирепость Парашурамы останавливают сами брамины в лице предков Парашурамы, которые весьма резонно указывают, что полное уничтожение кшатриев невыгодно для самих же браминов, но браминам следует держать их в руках и пользоваться их богатствами. Конец текста особенно плохо отредактирован и сбивчив, что отмечено в соответствующих примечаниях.
Третий раздел — «Беседа ученика и учителя» — начинается с 35 главы; это наиболее систематическое изложение уже хорошо сложившегося учения Санкхьи, где учение о пранах вытесняется учением о гунах, на котором основана вся система. Оно весьма обстоятельно изложено в четырёх главах (36—39). Учение о 25 таттвах (гл. 40—43) изложено вполне в духе теистической Санкхьи, очень полно и систематично. Глава 44 не более как вариант гл. 43. Главы 45—48 посвящены учению о периодах жизни как ступенях достижения освобождения. В первой главе текста (гл. 35) дан общий обзор системы в теистическом духе, разбирается отношение личности к Вселенской Душе и освобождение понимается, как преодоление гун путём накопления саттвы. В этом отношении важны последние главы 50—51, излагающие отношение саттвы и пуруши и смысл достижения Брахмо.
Резюмируя, можно сказать, что «Беседа ученика и учителя» относится к поздним эпическим текстам периода окончания формирования системы Санкхья, которая, хотя и остаётся ещё теистической, уже выработала все основы для перехода к своей атеистической форме. Развитая и вполне обоснованная система ступеней жизни (ашрама) в духе «Законов Ману» тоже говорит о более поздней датировке текста, который является одним из наиболее полных и систематических изложений в «Махабхарате» учения Санкхьи.
В третьем выпуске этой серии дан очерк теории освобождения согласно учению Санкхьи в связи с темой, затрагиваемой «Книгой Санатсуджаты». Но этот текст мало пригоден для изучения теоретических основ школы, а потому излагать этот вопрос в третьем выпуске было бы несвоевременно. В четвёртом выпуске даны ещё два текста, гораздо более полные и систематичные. Таким образом, читатель располагает достаточным текстуальным материалом. Это даёт возможность подвести некоторые итоги.
Философские тексты «Махабхараты» нельзя подвести под схему какой-либо определённой системы. В этих текстах постоянно встречаются термины Санкхья, Йога, Веданта, но значение их не то, какое в них стали вкладывать несколько столетий позже, как наименования определённых философских систем. В «Махабхарате» эти слова скорее надо понимать в их общем первичном значении, нежели как специальные, узкие термины.
Время «Махабхараты» — время бурного развития философской мысли, время напряжённых исканий, а не схоластической обработки духовных ценностей, добытых творческим усилием тех немногих, кого в Индии так выразительно именуют «махатма». Упанишады всесторонне развивали идею монизма в свете онтологической дилеммы: Бытие — бывание. Вопрос можно было бы сформулировать так: каким образом безусловное, а потому и простое неделимое и покоящееся Бытие-Сознание может проявляться как относительное, сложное, а потому делимое и преходящее бывание? Уже к концу периода Упанишад, в поздних Упанишадах (Шветашватара уп.) начато искание формулировки основного гносеологического вопроса об отношении причины к своему следствию. Если первый вопрос возможно решать методом интуиции (в самом широком смысле), то второй вопрос требует дискурсивного метода, метода борьбы «за» и «против»; по-санскритски этот метод называется «санкхья». Он возник в среде кшатриев, второго активного слоя тогдашнего общества, и породил три великих течения в недрах этой касты: буддизм, джайнизм и собственно санкхью. Все три течения опирались на великие открытия Упанишад. Буддизм был самым крайним течением. Отвергая догматизм в культовом смысле, он отказался и от догматической онтологии и таким образом пришёл к атеизму и акосмизму. Как рационалистическая система буддизм изощрённо развил логику, что блестяще показал Ф. И. Щербатской. Будучи глубоко пессимистичным, буддизм понимал йогу как праксис, дающий возможность пройти «средним путём» самообуздания и самовоспитания к полной отрешённости от иллюзии бывания. Но основной момент, делающий буддизм совершенно неприемлемым для браманизма, — это его отрицание кастового строя, вызвавшее смертельную борьбу между брахманизмом и буддизмом. Она закончилась практическим уничтожением буддизма в Индии (ср. описание этой борьбы в эсхатологических главах «Беседы Маркандеи»). Последние остатки буддизма брахманизм ассимилировал обычным в таких случаях приёмом: он объявил Гаутаму-Будду воплощением Вишну, но это совершилось настолько поздно, что в перечень воплощений Вишну, принятый «Махабхаратой», оно не вошло.
Джайнизм, как и буддизм, нигилистичен и пессимистичен, но он развил больше не рационалистическую сторону, не теорию, а праксис, йогу, в которой он не следовал «среднему пути» буддистов, а сохранил все крайности традиционной брахманической аскезы, и даже пошёл дальше, узаконив самоубийство после 12 лет бесплодной аскезы. Но джайнизм в отличие от буддизма сделал уступку брахманизму по социальной линии, сохранив, хотя и условно, кастовую систему, почему брахманизм и относился к нему терпимо. Рационалистическое течение, оформившееся позже в особую философскую систему Санкхья, как и предыдущие два, вышло из среды кшатриев; оно долго замалчивалось, так как не отделилось от брахманизма, подобно буддизму и джайнизму, которые развивались самостоятельно. Процесс развития этой системы позволяет изучить философские тексты «Махабхараты», продолжающие традицию Упанишад.
Монизм Упанишад, часто объединяемых под названием «Окончание Вед», Веданта, во время эпоса понимался как относительный или «монизм с различением», ярким памятником которого является «Бхагавадгита». Это первое из двух основных русел философской мысли «Махабхараты».
Второе течение — дуалистическое и даже плюралистическое, Санкхья, в узком смысле слова. Так как сущность первого течения была изложена в первом выпуске этой серии, то здесь нужно рассмотреть лишь сущность второго течения — Санкхьи.
Следует различать раннюю и позднюю школу Санкхьи. Ранняя Санкхья, Санкхья «Махабхараты», не вполне порвала с монизмом, и её колебания между относительным монизмом и дуализмом многообразно отражены в философских текстах «Махабхараты». Если «Гита» является примером позиции, наиболее близкой к монизму, то «Анугита», в особенности третий её текст, является хорошим примером наиболее дуалистической точки зрения, от которой остаётся только один шаг к поздней, строго дуалистической Санкхье. Наиболее ранним памятником этой Санкхьи ещё недавно, до работ Дасгупты, считалась Санкхья–карика Ишваракришны.
Как и все традиционные философские системы Индии, Санкхья исходит из понятия Атмана как абсолютного субъекта, но в отличие от всех монистических систем противополагает ему Пракрити как абсолютный объект. Оба они — безначальны; так отрицается творчество в каком бы ни было смысле. Атман, в системе Санкхья чаще называемый Пуруша (горожанин) или кшетраджна (знающий поле), даже не демиург, ибо он не принимает участия в строительстве мира, а только является «свидетелем» (сакши) его разворачивания (правритти) или сворачивания (нивритти).
Термин «пуруша» принято переводить через «дух», что весьма условно: такой перевод требует большой осторожности и строгого учёта контекста. И филологически и по смыслу слово «дух» скорее соответствует санскритскому слову «прана», особенно в Упанишадах, где это слово является почти синонимичным терминам Брахмо и Атман (ср. Каушитаки, Чхандогья, Майтраяна). Этот, казалось бы, чисто формальный момент очень важно выяснить. Дело не в филологических тонкостях, а в самой сущности мысли: едва заметная щель, чем дальше, тем больше расширяется и становится непроходимой пропастью. Упанишады учат о непосредственном участии Атмана, как Праны, в процессе жизни. Для Санкхьи же пуруша есть лишь посторонний созерцатель жизни (здесь под Санкхьей разумеется поздняя классическая Санкхья). Пуруша не есть Бытие-Знание-Блаженство, как определяют Атмана поздние вишнуитские Упанишады (Нрисинхатапания, Раматапания). Следуя традиции Брихадараньяка-упанишады (IX, 5, 15), Санкхья отрицает сознательность Пуруши как такового, отрешённого от Пракрити: Пуруша сознателен только постольку, поскольку его свет отражается от высших слоёв Пракрити, в первую очередь от буддхи. Но без Пуруши буддхи также лишена сознания, таким образом, сознание не субстанционально, а есть функция Пракрити, оно есть лишь отсвет Пуруши в Пракрити. Но реального соприкосновения Пуруши и Пракрити, их слиянности Санкхья не признаёт. Отсюда — дуализм.
Как и все индийские философские школы, Санкхья ставит своей конечной целью Освобождение. Теория строится с практической целью применения её для этой конечной цели. Способ применения, праксис, есть йога. В первую очередь нужно знать и понимать Пракрити, чтобы уметь от неё освободиться. Таким образом, ход рассуждения Санкхьи и буддизма один и тот же. Как буддизм начинает своё изложение с четырёх истин, без знания которых невозможно освободиться, так и Санкхья начинает изложение с теории Пракрити.
Пракрити есть материя, ткань (прадхана, основа ткани), как прадхана это есть «непроявленная природа — авьякта-пракрити». Оба термина «прадхана» и «авьякта-пракрити» почти равноправны в ранней Санкхье, как в этом можно убедиться по текстам, переведённым в этой серии.
Выражаясь языком школы, «утóк» ткани, её основные энергетические свойства находятся в спокойном или «растворённом» состоянии (пралая). Это — «нити» (гуны) утока, и поскольку они «нити», они материальны. Таким образом, школа не ставит грани между материей и энергией. Гуны как материя — нити, как энергия — качества. Их в полном согласии с законом диалектики — три[2]. Это энергетические проявления движения, инерции и равновесия. Дасгупта считает, что первичное философское значение слова «гуна» значит «качество» (первичное же филологическое значение — нить, волокно). Итак, субстанциональность гун, на которой настаивает поздняя Санкхья, философски есть понятие вторичное, что необходимо иметь в виду для уяснения себе хода развития школы Санкхьи. Ни прадхана (авьякта Пракрити), ни гуны не суть ещё вещество: субстанциональность их в пралае потенциальна, как потенциальна субстанциональность энергии. Лишь деятельностью гун (утока) на основе материальности (прадхана) осуществляются материя, вещество, вещь (дравья).
Пракрити первично понималась как энергия, как материальность, потенция материи, но ещё не сама материя; это отражено в мифологическом представлении: женский полюс божественных пар (сизигий), «жёны богов»: Парвати—Шивы, Лакшми—Вишну, так прямо и называются шакти, т. е. сила, энергия. Такая концепция нашла себе совершенное выражение в Тантрах, дающих диалектическое преодоление классической Санкхьи. Естественно, что в ранней Санкхье, т. е. в эпоху разворачивания более раннего этапа диалектического становления, положения сформулированы гораздо менее чётко, но зато несут в себе больше потенциальной энергии, как цветок несёт её больше, чем плод.
Пракрити уплотняется в материю (дхату), вещество, вещь (дравья) в силу диалектического перехода кинетической энергии (раджас) в потенциальную (тамас). Материя, будучи по существу единой, т. е. гомогенной, становится множественной (дифференцированной) в силу усложнения качеств (видов энергии), её «тонких сутей», веществ (танматра). В силу дифференциации энергии на различные её виды (качества), тонкие сути (танматра) превращаются в грубые вещества (махабхута) и «основные жидкости» («дхату»)[3]. Это и есть таттвы, сути, из которых строится здание проявленного или, пользуясь языком школы, узоры материи. Дасгупта указывает, что по мере систематизации Санкхьи термину «гуна» придавалось всё более и более вещественное значение, так что уже комментатор Йога-сутр, Бхикшу, ставит знак равенства между терминами «гуна» и «дравья». Как диалектически сочетанное единство, гуны неотделимы одна от другой, и весь процесс миропроявления, как физический, так и психический, обусловлен тем же «вращением гун», т. е. принципиально един.
То, что физически есть соразмерность, уравновешенность, а потому и свет, психически есть разумность, озарённость, благость, умиротворённость. Это саттва.
То, что физически есть движение, психически есть страсть, желание. Это раджас.
То, что физически есть тьма, плотность, тяжесть, то психически есть тупость, сонливость, злоба. Это тамас. Между сознанием и материей нет принципиального различия: психика материальна, материя же потенциально сознательна, всё зависит от соотношения гун в данном явлении. У психического нет преимущества перед материальным, но нет и обратного отношения, так как и то и другое обусловлено «вращением гун». Психическое и материальное есть лишь различные точки зрения на один и единственный процесс миропроявления. Без учёта этого положения могут быть существенные недопонимания текстов.
Гуны неотделимы одна от другой, и только их целостное диалектическое развитие может обеспечить миропроявление. Иначе говоря, всё проявленное обусловлено единством трёх гун и всё разнообразие миропроявления зависит от взаимоотношения этих трёх диалектических моментов, которые, как таковые, являются причиной, а как сочетание — следствием. Таким образом, весь причинно-следственный ряд целиком материален и нет надобности предполагать и даже нельзя себе представить первопричину, как нечто внеположное гунам. Так мы подошли к самому нерву системы: вопросу о сущности причинно-следственного ряда. Индийская философия придавала огромное значение исследованию отношения причины и следствия. Дискуссии по этому вопросу велись, можно сказать, веками, так как на его основе строилась одна из коренных тем размышлений индийских мудрецов — учение о карме, одно из учений, общих для всей индийской философии в целом, как подчёркивает Дасгупта. Таким образом, к вопросу, казалось бы, «чисто теоретическому» индийская философия подошла с этической стороны, ибо для неё не существует «чистой теории». «Скажи лишь то, чем я достигну блага» — так в «Бхагавадгите» формулирует Арджуна весь пафос индийской философии.
Индийская философия рано выработала понятие о причине материальной и причине осуществляющей (causa materialis et causa efficiens). Различные школы по-разному решали вопрос о взаимоотношении и смысле этих причин, как различно решался он и на Западе. Школа Санкхьи придерживалась реалистического толкования, значит она принимала, что материальная причина остаётся существовать в следствии. Классический пример индийской логики: глина как материальная причина продолжает существовать в горшке, хотя и в изменённом виде под воздействием горшечника (причина действующая). Таким образом, гуны, как причина материальная, остаются существовать во всех видоизменениях, как в следствиях. Воздействующей причиной является нарушение их равновесия, происходящее внутри них самих. Отсюда прямой вывод: весь процесс миропроявления целиком материален и не может иметь никакой внеположной причины, ни материальной, ни воздействующей. Значит, абсолютный субъект, Атман, не может быть причиной мира, следовательно, внеположен ему. Так Санкхья приходит к дуализму. Вся суть освобождения заключается в понимании, а значит, и в осуществлении этого положения: индийская философия признаёт только то знание (джнана) истинным, которое приводит к осуществлению (виджнана) познанного, этим перенося проблему ценности целиком в этику.
Атман отделим от причинно-следственного ряда потому, что в действительности он никогда в нём не стоял и не стоит. Пуруша есть только «свидетель» мирового процесса, познающий поле, а значит стоящий вне поля. Причинно-следственный ряд целиком — область гун и заключается во вращении гун в гунах («Гита»).
Состояние уравновешенности, нейтрализации гун не является их уничтожением, но только переходом из актуального состояния в потенциальное или, говоря языком индийской философии, из состояния проявленного (вьякта) в состояние непроявленное (авьякта). Это и есть пралая, растворение. Пралая и проявление сменяют друг друга с закономерностью смены дня и ночи. Но в смене форм основа (прадхана, авьякта пракрити) остаётся вечной. Пуруша и Пракрити оба безначальны («Гита»). Состояние проявленного по самой своей сути неустойчиво, т. е. между проявленным и преходящим стоит знак тождества, отчего мир и называется «джагат» — преходящее. Но в таком случае о проявленном, как и о прадхане, нельзя сказать, что это есть Бытие. Так мысль подходит к проблеме онтологии. Разные школы традиционной индийской философии решают эту проблему различно. На двух крайних точках стоят школы Веданты и Санкхьи. Веданта (школа Шанкары — VIII в. н. э.) отрицает реальность проявленного, ибо, как и Санкхья, отрицает возможность реального общения безусловного и относительного. Для Шанкары проблемой является не Абсолют, Атман, который понимается как непосредственная данность, но относительное, природа, обосновать которую с точки зрения школы нельзя, так как нельзя объяснить, каким образом Атман, чистое и безусловное знание, может впадать в иллюзию «Неведенья». Но в такой тупик индийская философская мысль зашла относительно поздно, в VIII в. н. э., когда индийская философия уже насчитывала около 1000 лет существования. Идея майи, как мировой иллюзии, встречается в поздних Упанишадах. Дейссен считает, что впервые слово майя как иллюзия в применении к Пракрити встречается в Шветашватара-упанишаде (4, 10). Это одно говорит против правильности отождествления философии Упанишад с Ведантой как философской школой, хотя такое отождествление широко распространено не только на Западе, но и в самой Индии, где школа Шанкары и до сих пор считается если не единственной, то, во всяком случае, безусловно авторитетной в толковании учения Упанишад.
Школа Санкхьи, принимая реалистическое толкование причинно-следственного ряда, должна была прийти к противоположному выводу: она должна была принять реальность Пракрити, т. е. отказаться от монизма, так как отказаться от идеи абсолютного субъекта, Атмана, значило рвать со всей традицией Упанишад. Отказ от монизма Упанишад мог произойти не сразу; переход к дуализму, а от него к плюрализму совершался через промежуточные звенья. Самым существенным звеном являлась пресловутая «двадцать пятая таттва» Мировая Душа, как принцип, объединяющий индивидуальные души. В системе Санкхьи, по существу своему дуалистической, этот принцип оказался в таком же неустойчивом положении, как в системе Лейбница принцип «мировой гармонии» и идея «верховной Монады». То же внутреннее противоречие привело обе эти системы, имеющие много общего, к атеистическому плюрализму внутренней логикой систем и вопреки эмоциональной направленности их творцов. Если «монады не имеют окон для общения с миром других монад», как утверждает Лейбниц, то «принцип предустановленной гармонии» неизбежно выбрасывается самой системой. Если пуруша, джива есть внеположный природе «свидетель» процесса миропроявления, то полностью отпадает надобность в объединении всех пурушей, джив, одним «Великим (Махат) сознанием». Так двадцать пятая таттва выпадает из системы, которая из дуалистической становится плюралистической и из теистической — атеистической.
Буддизм, анализируя причинно-следственный ряд, делал акцент на «исполняющей причине» (causa efficiens), идея материальной причины всё более стушёвывалась и через учение о моментальности дхарм буддизм пришёл к акосмизму. Настаивая на примате материальной причины, Санкхья пришла к идее материальности гун, а отсюда к реализму.
Первичное значение слова «гуна» — «волокно» было удобно для выражения идеи непрерывности и материальности причинно-следственного ряда. Как нить утока, не прерываясь, переплетается с основой (прадхана) и образует узор ткани, так и причинно-следственный ряд гун, не прерываясь, образует многообразие мира; как нити сплетаются между собой, так и гуны, сплетаясь, образуют «кратность» вещей (в санскритском слово «гуна» на конце сложного слова в сочетании с числительным выражает кратность, например, «двигуна» значит двукратно). Эта кратность обусловливает «качественность» гун.
Итак, в поздней Санкхье термин «гуна» понимался как первичная субстанционально-качественная (энергетическая) нить, как уток, расцвечивающий основу природы (прадханы), осуществляющий разнообразие узора её необъятной, но единой ткани. Всё разнообразие проявленного есть лишь неустойчивая форма единой и остающейся неизменной в обоих проявлениях (паринама) материи («глины»), преобразования которой обусловлены деятельностью гун («горшечника»). Как бы ни разнообразны казались проявления, по сути они одно и различаются лишь своей «кратностью» или «качеством», т. е. комбинацией единых в своей тройственности гун: саттва, раджас и тамас. Уток всегда един, но переливы ткани зависят от взаимоотношения трёх его волокон.
Сперва эти волокна очень тонки и образуют почти прозрачную, светлую ткань, так как в ней преобладают светлые волокна саттвы, но постепенно ткань становится плотнее, грубее и темнее, так как «кратность» волокон увеличивается, усугубляются «качества» и нарастает всё больше тёмных волокон (тамас), всё меньше становится светлых (саттва). Так возможны бесчисленные оттенки, отсветы, но мысль отмечает лишь некоторые основные «кратности», «кванты», обусловливающие переход количества в качество. Ступени, образованные «кратностями», называются «таттвы» (сути). Границы между таттвами условны, так как переходимы в обоих направлениях: от более тонких таттв (сутей) к более плотным и обратно. Так осуществляется процесс разворачивания (правритти) и сворачивания (нивритти) — вечные приливы и отливы преходящего мира. Это — круговорот (чакра) потока жизни (самсары, сар — течь). Число таттв и даже порядок первых таттв не установлены прочно и в текстах встречаются разные варианты перечисления. Ранняя Санкхья насчитывает 26 или 25 таттв, поздняя — 24. Так как пуруша выделяется как особая таттва, то число таттв в Пракрити на единицу меньше.
В Пракрити первой таттвой обычно считается буддхи — чистая, прозрачная, преисполненная светом саттвы, как синее небо — светом солнца. Реже за первую таттву принимается манас (ср. «Анугита», гл. 34), но в поздней Санкхье такая перестановка недопустима.
Буддхи можно понимать в широком смысле как мировой разум и в более узком смысле как индивидуальный разум. В первом случае буддхи носит особое название — Махан — Великий, Душа Мира или Ишвара, Владыка. Это и есть лишняя таттва, которая соответствует лейбницевской высшей, объединяющей монаде. Санкхья, признающая эту таттву, называется теистической (сешвара Санкхья), Санкхья, не признающая этой таттвы, называется атеистической (ниришвара Санкхья). Изложенное показывает, что перевод этих санскритских терминов на термины европейской философии неадекватен, так как и та и другая Санкхья признают категорию духа, Пуруши; с другой стороны, «теистическая» Санкхья относит таттву Махан Атма к системе природы.
Сама по себе буддхи не сознательна, как не сознателен сам по себе Пуруша. Сознание возникает от озарения буддхи Пурушей («как солнце озаряет мир, так знающий поле озаряет поле» — метафора, часто встречающаяся в текстах «Махабхараты»). Теория о сообщении сознания несознательной по существу Пракрити — одна из уязвимых точек Санкхьи, особенно поздней. Поздняя Санкхья решительно отрицает связь Пуруши и Пракрити в категориях времени и пространства и вынуждена принять какую-то вневременную и внепространственную связь, нечто вроде «предустановленной (кем?) гармонии». После уязвимой точки дело идёт, как обычно, в хорошо продуманных философских системах, более или менее гладко, раз принята «точка опоры» Архимеда или, выражаясь санскритским термином, «марана» системы, та её точка, разрушение которой разрушает и саму систему. Отрицая сознание Пуруши, Санкхья не противоречит Упанишадам, ибо там есть тексты, отрицающие сознание абсолютного субъекта, Атмана (ср. Брихадараньяка упанишаду, I, 5, 15).
Из сознания путём прибавления нового качества, которое европейская философия называет рефлексией, возникает «Основа личности», обособления — аханкара (букв. делающий «я»). Так возникает разделение на «я» и «не-я» и познание первым второго. Вырабатывается способность усвоения, осмысления и переживания воздействий «не-я». Как познавательная функция — это рассудок, как эмоциональная — «сердце» (в психологическом, но не в анатомическом смысле). Эти три «сути» таттвы (буддхи, аханкара и манас) есть «внутренняя причина», обусловливающая психическую функцию в целом. Так понимает термин антахкарана Dahlmann, думается он более прав, чем те исследователи (например, Дейссен), которые ставят знак равенства между антахкараной и манасом. Такое дублирование терминов не оправдано. Из аханкара (или, по йоге, из буддхи), как от принципа обособления, выделяется, с одной стороны, манас как орган субъекта; с другой — «тонкие сути» (танматра) как потенция «грубых сутей», соответствующих стихиям эллинистической философии, но то, что называется там квинтэссенцией четырёх элементов, в системе Санкхья рассматривается как особый элемент, акаша, приблизительно соответствующий эфиру греков. Таким образом, по аналогии с «внутренней причиной», «тонкие сути» танматра можно было бы назвать «внешней причиной». Это пространственность, воздушность, огненность, текучесть и твердость, как потенции пространства (акаша), воздуха, огня, воды и земли, т. е. «грубых элементов», махабхутов. И здесь сохраняется тот же принцип «кратности» или «валентности», ибо каждый последующий элемент отличается от предыдущего новой «валентностью» или «качеством». Так, «валентность», свойство пространства одно: звук, воздуха — два: звук и касание и т. д. Эти «свойства» определяются по органам чувств: слух, осязание, зрение, вкус, обоняние. Таким образом, земля как последний элемент определяется всеми пятью валентностями: звуком, касанием, зримостью, вкусом и запахом. Из этих пяти элементов строятся все вещи природы (дравья) и, в частности, «основные жидкости тела», дхату, о которых говорит «Анугита». Их тоже насчитывается 5, иногда больше — 7, 10. Так определяется «не-я».
«Я», спускаясь по ступеням: буддхи — аханкара — манас, привлекает из природы (материи) чувства (ср. «Гита», XV, 7). Таким образом, чувства, извлечённые из элементов, в точности им соответствуют: слух — пространству, осязание — воздуху и т. д. Манас сосредоточивает в себе две пятёрки органов связи с внешним, по-санскритски называемых «индрии»: пять воспринимающих индрий (пять чувств) и пять «действующих». Эти действующие индрии менее, чем воспринимающие соответствуют нашим физиологическим представлениям о центробежных связях, но в принципе схема деятельности нервной системы дана совершенно точно: центростремительная дуга (чувствующие нидрии), центральная часть, распределяющая, упорядочивающая и осмысливающая получаемые извне импульсы (манас) и центробежная часть, действующие или выполняющие индрии. Всё это в точности соответствует схеме рефлекса современной физиологии. Что касается сущности восприятия, то система Санкхья как реалистическая учит, что чувства действительно воспринимают нечто от предмета, получают от него энергию, тонкое вещество, которым они питаются, как корова травой, поэтому предметы и называются «пастбищем чувств» (гочара). Так образуется круг, замкнутый вверху на аханкара, а внизу — связью махабхутов и индрий. Отсюда закон, так блестяще сформулированный «Анугитой» (спор манаса с чувствами): в манасе нет и не может быть ничего, что не было бы добыто чувствами.
Материя едина, это основа, «прадхана»; её изменения происходят в обоих направлениях по принципу «валентности» или накопления и отдачи свойств по закону причинно-следственного ряда, зиждущегося на единстве энерго-материи гун, «вращающихся» по диалектической схеме тезис-антитезис-синтез. Нет противопоставления материи и энергии, нет противопоставления бытия и сознания: бытие в силу своего бывания (правритти) становится сознанием. В силу единства, целостности Пракрити в манасе нет и не может быть ничего недоставленного ему чувствами, но, с другой стороны, в природе нет и не может быть ничего, что не развилось бы из буддхи. Итак, перечисляя от более плотного к более тонкому Санкхья различает следующие таттвы: а) 5 грубых (махабхута), б) пять тонких сутей (танматра), в) десять индрий, г) манас, д) аханкара, е) буддхи — всего 23 таттвы природы + пуруша = 24. Это исчисление атеистической Санкхьи. Теистическая Санкхья (ранняя, эпическая) признаёт над буддхи ещё одну таттву Пракрити Махан, Махан Атма, Вселенскую Душу. Таким образом, насчитывается 25 таттв. Эти обе Санкхьи по существу плюралистичны, так как они признают множество отдельных пуруш, но если принять, что пуруши являются лишь гранью одного абсолютного субъекта, Атмана, то таттв оказывается 26 и две из них относятся к Атману, остальные — к Пракрити, так в конечном счёте получается дуалистическая система. Эти три вида Санкхьи изложены в «Мокшадхарме» (XII, 318).
Ранняя Санкхья, ещё не порвавшая с монизмом Упанишад, излагается в философских текстах «Махабхараты», в частности к ней относятся «Беседа Маркандеи» и «Анугита». Ещё недавно Санкхья-карика Ишваракришны (конец II — начало III в. н. э.) считалась наиболее ранним текстом поздней Санкхьи, но Дасгупта нашёл текст Санкхьи, принадлежащий Чараке, уже носящий все характерные черты поздней Санкхьи. Дасгупта относит его к середине I в. н. э. Таким образом, если даже окончательное формирование Санкхьи отодвигается на 1,5—2 столетия раньше, то всё же между зарождением этой школы и полным её оформлением прошло не менее 5 веков, принимая, что первые черты Санкхьи уже намечены в Шветашватара-упанишаде. Изучаемые памятники относятся к периоду созидания школы и поэтому нет ничего удивительного, что в них мы встречаем разные варианты системы, иногда даже стоящие в противоречивом отношении друг к другу. Для V выпуска этой серии намечен к переводу наиболее крупный сборник философских текстов — «Основа Освобождения» — «Мокшадхарма» (из книги XII «Махабхараты»). После ознакомления с ним возможен и нужен полный разбор. Он тем более нужен, что комментарии к «Бхагавадгите» предназначаются для читателя, достаточно хорошо знакомого с основами древнеиндийской философии. Уже беглый взгляд на тексты, помещённые в данном выпуске, убеждают, что целый ряд важных вопросов или вовсе не затронут в настоящем очерке, или затронут лишь слегка. Сделано это потому, что данный обзор стремится выявить с посильной чёткостью сформировавшийся костяк системы. Владея схемой, читатель сам сможет проследить разнообразные пути развития индийской мысли в разбираемую эпоху и степени её отклонений от намеченных основных направлений. Однако одного вопроса, оставленного в стороне, совершенно необходимо коснуться, ибо отношение к нему каждого из данных текстов может служить критерием, насколько данный текст сохранил монистическую установку Упанишад. Это вопрос о Пране и пранах. В период создания философских текстов «Махабхараты» (первая половина I тыс. до н. э.) вопрос этот ещё продолжал интересовать мыслителей, особенно йогического направления, но постепенно по мере развития Санкхьи интерес к нему гаснет, так как в зрелой системе Санкхья ему нет места и понятие о пранах туда можно втиснуть лишь насильственно. Очень показательны в этом отношении тексты «Анугиты». Пранам уделяется достаточное внимание первым текстом, близким к буддийской йоге, и вторым текстом, явно более ранним и менее отработанным в смысле Санкхьи, тогда как третий текст, уже очень хорошо отработанный в этом отношении, систематично излагающий почти зрелое учение Санкхьи, оставляет вовсе без рассмотрения учение о пранах. И в самом деле, зрелой Санкхье с пранами нечего делать, так как это понятие совсем иных систем. В Санкхья-карике лишь глухо говорится о том, что деятельность манаса и индрий осуществляется как особые токи или дыхания (прана); современная физиология сказала бы, как центростремительные и центробежные нервные токи. В йоге, построенной на системе Санкхья (Йога-сутры Патанджали), пранам отводится осуществление жизненных, выражаясь языком физиологии, вегетативных функций (регуляция дыхания, кровонаполнения и пр.). Но в Упанишадах учение о Пране было совсем иным. Дасгупта указывает, что в Ведах Прана отождествлялась с Брахмо, как высшим принципом. Айтарея-араньяка рассматривает Прану как творческое слово Вед (Ом). Древние Упанишады отводят Пране ведущую роль. Так, Каушитака отождествляет Прану с Брахмо; Чхандогья принимает Прану как символ Брахмо; «Гита» (VIII, 10—13) принимает Прану как жизненный принцип, сливающийся с Творческим Словом (ср. кн. Берейшит «Ruah Elohim», иоановское учение о Логосе и «Logoi spermatikoi» Филона).
Совершенно ясно, что такое значение Праны совершенно неприемлемо для школы Санкхья. Вот почему вопрос о Пране является таким показательным. Уже одно то, что «Гита» принимает Прану в духе Упанишад, оправдывает традицию наименования этого памятника Упанишадой (по духу, а не по форме) и не позволяет отнести его к школе Санкхья[4], как это делают многие исследователи только на том основании, что в «Гите» многократно употребляется это слово. Прав Дейссен, принимающий для «Гиты» слово «санкхья» в значении «рассуждение», а не в значении специального термина. Наоборот — йога, основанная на системе Санкхья, хотя бы она и признавала, как «йогасутры», пресловутый 25 й принцип, есть атеистическая йога, вопреки традиции, именующей йогу Патанджали «теистической». Йога Патанджали по духу близка не «Гите», как принимают некоторые исследователи, а буддийской и джайнийской йоге, ибо цель этих йог не единение, а отрыв, изоляция (кайвалья). Все три школы (ранняя и поздняя Санкхья, йога) исходят из глубочайшего пессимизма, тогда как «Гита» утверждает любовь к жизни (бхакти). Об этом подробнее см. вып. II.
Из переведённых в этой серии памятников «Гита» есть типичный и ярчайший памятник развития философии Упанишад по пути «относительного монизма», «Анугита» — по пути дуализма. Первое направление ведёт к Раманудже, Чайтаньи, Альварам. Второе направление получило своё завершение в поздней Санкхье.
Примечания[править | править код]
- ↑ На то, что род Ангирасы, которому принадлежат некоторые мандалы Ригведы, кшатрийский, указывает R. Ch. Dutt в «A History of civilisation in Ancient India», L., 1889, стр. 157. Автор для подтверждения своего мнения ссылается на Вишну-Пурану, 3, 5. Впрочем это как-будто противоречит Мбх-е, XII, 7570.
- ↑ Таким образом, основные законы диалектики впервые сформулированы не эллинской и не эллинистической философией, а тем менее немецкой философией XVIII — начала XIX в., но индийской, особенно школой Санкхья.
- ↑ На основании этой концепции построена эллинистическая теория медицины, откуда её усвоил Ибн-Сина.
- ↑ Несколько позже, в этом же (1958) году в письме Т. Я. Елизаренковой (от 23 октября) Б. Л. Смирнов писал: «У Ишваракришны нет ничего, чего бы не было в Санкхье Махабхараты, а в Санкхье Махабхараты есть безмерно больше, чем в Ишваракришне и Патанджали (тоже компиляторе) обоих вместе. Гита — поворотный пункт и вершина Санкхьи. Я об этом догадывался, но теперь, когда я переработал все соответствующие тексты Махабхараты, мне стало это вполне ясно. Настоящую Санкхью следует искать не в Санкхья-карике, которую почему-то принято отождествлять с Санкхьей, когда это всего лишь одна и слабейшая её ветвь». (Примечание редакции).